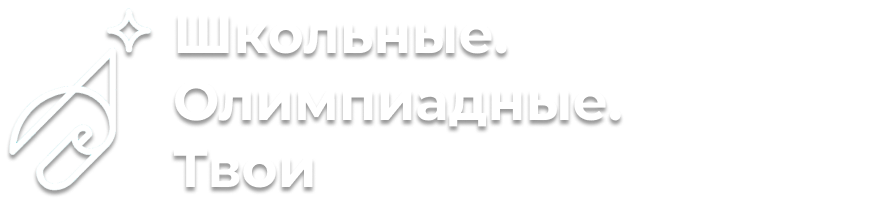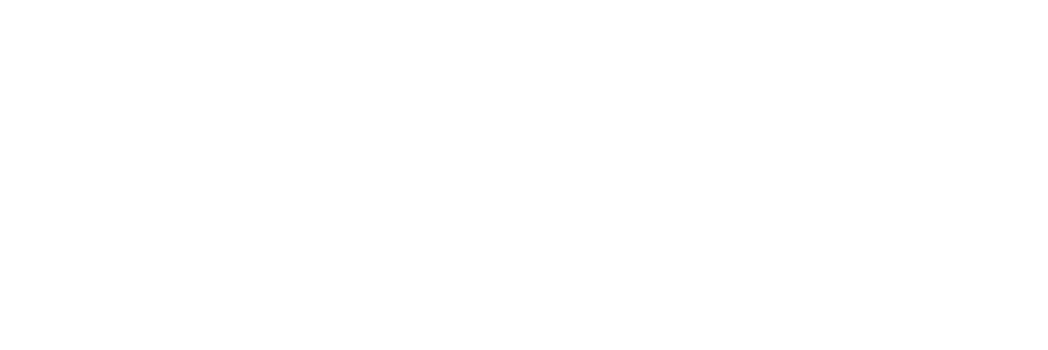«Интеллектуальная олимпиада во многом похожа на спорт»
Когда ты олимпиадник, ты учишь, но это не значит, что ты задвигаешь все остальные активности
История олимпиадницы, ставшей наставником для многих ребят, интересующихся химией. С ней этот предмет становится не просто понятным, но ещё и очень интересным. Это Светлана Анатольевна Баскакова, руководитель школы подготовки и олимпиадных сборных по химии. Под шум дистиллированной воды, в окружении колб и склянок педагог рассказала об отличиях образовательных течений и перспективах олимпиадного движения.
— Как вы пришли к своей профессии?
— То, что мы делаем в жизни, приводит нас к тому, чем мы занимаемся профессионально. Я сама была олимпиадницей, мне всегда нравилась химия, и олимпиады стали для меня окном в профессиональную химию. После школы я поступила на химфак НГУ, выучилась, работала лаборантом, занималась преподавательской деятельностью, а в аспирантуре — наукой.
— В школьные годы у вас были успехи в олимпиадной деятельности?
— Да, конечно, но я остановилась на регионе. В наше время была совсем другая система, были окружные олимпиады, и на них я была призёром, на заключительный этап тогда мало кого брали. Но мне, например, олимпиада дала способ поступить в СУНЦ НГУ, где я проучилась весь 11 класс. Олимпиады — это не только про какие-то знания, это про сообщество. Потому что люди, которые участвуют в них, позже поступают на химфаки, занимаются химией профессионально. Я, например, знаю бывших олимпиадников, которые ездили на сборы и были на всех олимпиадах вместе. Ребята там подружились и общаются до сих порт, теперь уже как студенты 2, 3, 5 курса. Это способ найти друзей, сформировать вокруг себя сообщество. Когда ты встречаешь такого человека, у вас чуть больше контактов, а, следовательно, общее дело построить гораздо легче. Например, в науке горизонтальные связи, общение, сарафанное радио сверхважны. Те же конференции именно так и работают: важно, чтобы один научник встретился с другим научником, чтобы они договорились, и олимпиады как раз формируют этот круг общения.
— То, что мы делаем в жизни, приводит нас к тому, чем мы занимаемся профессионально. Я сама была олимпиадницей, мне всегда нравилась химия, и олимпиады стали для меня окном в профессиональную химию. После школы я поступила на химфак НГУ, выучилась, работала лаборантом, занималась преподавательской деятельностью, а в аспирантуре — наукой.
— В школьные годы у вас были успехи в олимпиадной деятельности?
— Да, конечно, но я остановилась на регионе. В наше время была совсем другая система, были окружные олимпиады, и на них я была призёром, на заключительный этап тогда мало кого брали. Но мне, например, олимпиада дала способ поступить в СУНЦ НГУ, где я проучилась весь 11 класс. Олимпиады — это не только про какие-то знания, это про сообщество. Потому что люди, которые участвуют в них, позже поступают на химфаки, занимаются химией профессионально. Я, например, знаю бывших олимпиадников, которые ездили на сборы и были на всех олимпиадах вместе. Ребята там подружились и общаются до сих порт, теперь уже как студенты 2, 3, 5 курса. Это способ найти друзей, сформировать вокруг себя сообщество. Когда ты встречаешь такого человека, у вас чуть больше контактов, а, следовательно, общее дело построить гораздо легче. Например, в науке горизонтальные связи, общение, сарафанное радио сверхважны. Те же конференции именно так и работают: важно, чтобы один научник встретился с другим научником, чтобы они договорились, и олимпиады как раз формируют этот круг общения.
Активность и усидчивость должны быть в такой идеальной пропорции, чтобы тебе было все интересно
Научиться или учить?
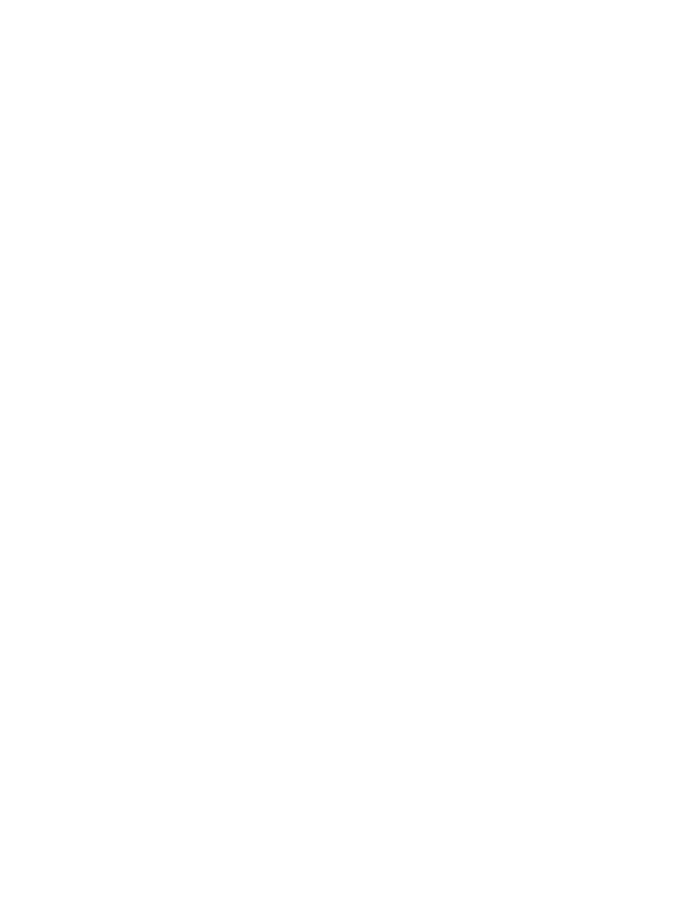
Фото взято из личной странички Вконтакте Светланы Баскаковой
— Почему вы выбрали преподавательскую деятельность вместо научной?
— Мне всегда нравилась наука, однако это достаточно специфическая деятельность, которая требует особого склада характера. Активность и усидчивость должны быть в такой идеальной пропорции, чтобы тебе было всё интересно, и ты двигал науку, но при этом ты мог сесть и довести дело до конца. У меня характер более легкий, и я поняла, что мне в науке тяжело, просто потому что малая подвижность. Она есть в том случае, если ты делаешь большое открытие, о котором рассказывается на какой-нибудь конференции. Это год твоей жизни, во время которого ты ходишь и синтезируешь в ещёства. Потом ты всё это оформляешь в статью, и это и есть всё событие. Мне хотелось больше динамики, и при этом я всегда параллельно преподавала. Например, как репетитор по химии. В начале программы ученик ко мне приходит, он вообще ничего не знает. Мы с ним встречаемся целый год, учим, экспериментируем, что-то в нас меняется, меняется во мне, меняется в ученике, и я вижу этот результат. В научной деятельности этот результат чуть более отложенный, поэтому мне вот хотелось больше доносить, рассказывать, делиться своими мыслями и знаниями. Научная деятельность требует полного погружения, невозможно заниматься наукой и ещё чем-нибудь — только в том случае если это близкие какие-то вещи. Образование и наука — это две абсолютно разные стези. Я решила, что буду педагогом. Получается, олимпиадная деятельность стала как бы логическим продолжением этой работы, потому что когда ты изучаешь что-то углубленно, то тебе хочется показать свои результаты.
— Мне всегда нравилась наука, однако это достаточно специфическая деятельность, которая требует особого склада характера. Активность и усидчивость должны быть в такой идеальной пропорции, чтобы тебе было всё интересно, и ты двигал науку, но при этом ты мог сесть и довести дело до конца. У меня характер более легкий, и я поняла, что мне в науке тяжело, просто потому что малая подвижность. Она есть в том случае, если ты делаешь большое открытие, о котором рассказывается на какой-нибудь конференции. Это год твоей жизни, во время которого ты ходишь и синтезируешь в ещёства. Потом ты всё это оформляешь в статью, и это и есть всё событие. Мне хотелось больше динамики, и при этом я всегда параллельно преподавала. Например, как репетитор по химии. В начале программы ученик ко мне приходит, он вообще ничего не знает. Мы с ним встречаемся целый год, учим, экспериментируем, что-то в нас меняется, меняется во мне, меняется в ученике, и я вижу этот результат. В научной деятельности этот результат чуть более отложенный, поэтому мне вот хотелось больше доносить, рассказывать, делиться своими мыслями и знаниями. Научная деятельность требует полного погружения, невозможно заниматься наукой и ещё чем-нибудь — только в том случае если это близкие какие-то вещи. Образование и наука — это две абсолютно разные стези. Я решила, что буду педагогом. Получается, олимпиадная деятельность стала как бы логическим продолжением этой работы, потому что когда ты изучаешь что-то углубленно, то тебе хочется показать свои результаты.
Разные миры: олимпиады, ЕГЭ, проектная деятельность
— Подготовка детей к олимпиадам и к ЕГЭ как-то отличается?
— Это два совершенно разных мира. Вообще, проекты, олимпиады, экзамены и просто обучение химии — это разные вещи. Олимпиада требует иных подходов, потому что знания, необходимые для написания олимпиад очень углублённые. Надо уметь применять законы. В школе вас могут просто научить использовать их, а в олимпиадах нет какого-то конкретного алгоритма. Ты должен сам выбрать закон, который нужно применить, понять, какая формула необходима. В олимпиадах по химии сухую теорию никогда не спрашивают, ты должен уметь разные знания применять ситуативно. В олимпиадах всё очень обширно, а в ЕГЭ, на мой взгляд, вообще ничего на самом деле нет. Это огромный экзамен, но при этом там на самом деле очень мало спрашивают, очень ограниченно. Например, на ЕГЭ у вас спрашивают один вариант реакции, заученный в школе, а на самом деле их может быть хоть пять, но остальные в ЕГЭ не спрашивают. Подготовиться реально. Те ребята, которые ограничены знаниями ЕГЭ по химии, они потом вряд ли победят в олимпиадах и, как правило, не идут в научную деятельность. Впрочем, это даже для меня вызов во многом, потому что материал достаточно разнообразный, и всегда есть чему самой поучиться, что-то новое узнать. В последний год у меня есть ощущение, что я ничего не знаю — всё время я сталкиваюсь с областью своего незнания. Потому что химию таллия или какого-нибудь тантала, извините, я никогда не учила.
— Если бы сейчас существовала олимпиада для профессионалов, поучаствовали ли бы вы в ней?
— Моя профессия — педагог, поэтому я бы с удовольствием поучаствовала в олимпиаде для педагогов. И я всё равно в душе остаюсь химиком, поэтому химия в виде олимпиады для профессионалов мне также была бы интересна.
— Сейчас всё больше людей поступают в вузы по олимпиадам, и есть мнение, что это обесценивает саму систему сдачи ЕГЭ. Как вы к этому относитесь?
— Это не обесценивает, потому что, во-первых, сколько человек из участников олимпиады могут поступить? Обычно это не больше 15−20 процентов. Например, участвует 3−5 тысяч. Сколько человек из этого может вообще поступить? Вся эта система ведь не отменяет сдачу ЕГЭ, но если ты олимпиадник, то тебе ЕГЭ — детский лепет. Олимпиаднику нужно только приучить себя к правилам и ограничениям, которые накладывает ЕГЭ. Если ты месяц или два порешаешь эти задачи, то точно сдашь не меньше, чем на 80 баллов.
— У нас вчера была лекция с Александром Коротичем, и он рассказывал, что отдельно существует проектная деятельность, а отдельно — олимпиадная. Если их сравнивать, то люди, которые занимаются проектной деятельностью, по мнению лектора, будут более эрудированными, потому что они умеют мыслить в масштабе. Он считает, что многие олимпиадники не умеют это делать, ведь свой огромный объём знаний они зачастую «зазубривают». Как в химии это работает?
— Примерно так же, потому что когнитивные способности у человека ничем не отличаются. В современном мире важно не иметь знания, а применять их. Это значит, нужно быть на ступеньку выше, чем просто знать. Например, есть рассуждение про софт скиллс. Всем нашим работодателям нужны люди с высоким уровнем софт скиллс, но в первую очередь они хотят профессионала, который умеет всё по хардам. Уже после этого у профессионала должны быть софт скиллс, потому что если ты красиво разговариваешь и красиво выступаешь с красивой презентацией, но там написана полная чушь, которая никогда не будет работать в жизни, то такой работник никому не нужен. Поэтому нужно развивать софт скиллс, но это должно идти рука об руку со знаниями. К тому же, у олимпиадного движения нет задачи развивать коммуникативные навыки, у него совершенно другие цели, поэтому сравнивать проектную деятельность и олимпиады я считаю не совсем верным. Они идеально работают в комбинации, потому что в проектной деятельности тоже есть свои проблемы: отрывочность знаний, малая база. Вот это моя точка зрения.
— Это два совершенно разных мира. Вообще, проекты, олимпиады, экзамены и просто обучение химии — это разные вещи. Олимпиада требует иных подходов, потому что знания, необходимые для написания олимпиад очень углублённые. Надо уметь применять законы. В школе вас могут просто научить использовать их, а в олимпиадах нет какого-то конкретного алгоритма. Ты должен сам выбрать закон, который нужно применить, понять, какая формула необходима. В олимпиадах по химии сухую теорию никогда не спрашивают, ты должен уметь разные знания применять ситуативно. В олимпиадах всё очень обширно, а в ЕГЭ, на мой взгляд, вообще ничего на самом деле нет. Это огромный экзамен, но при этом там на самом деле очень мало спрашивают, очень ограниченно. Например, на ЕГЭ у вас спрашивают один вариант реакции, заученный в школе, а на самом деле их может быть хоть пять, но остальные в ЕГЭ не спрашивают. Подготовиться реально. Те ребята, которые ограничены знаниями ЕГЭ по химии, они потом вряд ли победят в олимпиадах и, как правило, не идут в научную деятельность. Впрочем, это даже для меня вызов во многом, потому что материал достаточно разнообразный, и всегда есть чему самой поучиться, что-то новое узнать. В последний год у меня есть ощущение, что я ничего не знаю — всё время я сталкиваюсь с областью своего незнания. Потому что химию таллия или какого-нибудь тантала, извините, я никогда не учила.
— Если бы сейчас существовала олимпиада для профессионалов, поучаствовали ли бы вы в ней?
— Моя профессия — педагог, поэтому я бы с удовольствием поучаствовала в олимпиаде для педагогов. И я всё равно в душе остаюсь химиком, поэтому химия в виде олимпиады для профессионалов мне также была бы интересна.
— Сейчас всё больше людей поступают в вузы по олимпиадам, и есть мнение, что это обесценивает саму систему сдачи ЕГЭ. Как вы к этому относитесь?
— Это не обесценивает, потому что, во-первых, сколько человек из участников олимпиады могут поступить? Обычно это не больше 15−20 процентов. Например, участвует 3−5 тысяч. Сколько человек из этого может вообще поступить? Вся эта система ведь не отменяет сдачу ЕГЭ, но если ты олимпиадник, то тебе ЕГЭ — детский лепет. Олимпиаднику нужно только приучить себя к правилам и ограничениям, которые накладывает ЕГЭ. Если ты месяц или два порешаешь эти задачи, то точно сдашь не меньше, чем на 80 баллов.
— У нас вчера была лекция с Александром Коротичем, и он рассказывал, что отдельно существует проектная деятельность, а отдельно — олимпиадная. Если их сравнивать, то люди, которые занимаются проектной деятельностью, по мнению лектора, будут более эрудированными, потому что они умеют мыслить в масштабе. Он считает, что многие олимпиадники не умеют это делать, ведь свой огромный объём знаний они зачастую «зазубривают». Как в химии это работает?
— Примерно так же, потому что когнитивные способности у человека ничем не отличаются. В современном мире важно не иметь знания, а применять их. Это значит, нужно быть на ступеньку выше, чем просто знать. Например, есть рассуждение про софт скиллс. Всем нашим работодателям нужны люди с высоким уровнем софт скиллс, но в первую очередь они хотят профессионала, который умеет всё по хардам. Уже после этого у профессионала должны быть софт скиллс, потому что если ты красиво разговариваешь и красиво выступаешь с красивой презентацией, но там написана полная чушь, которая никогда не будет работать в жизни, то такой работник никому не нужен. Поэтому нужно развивать софт скиллс, но это должно идти рука об руку со знаниями. К тому же, у олимпиадного движения нет задачи развивать коммуникативные навыки, у него совершенно другие цели, поэтому сравнивать проектную деятельность и олимпиады я считаю не совсем верным. Они идеально работают в комбинации, потому что в проектной деятельности тоже есть свои проблемы: отрывочность знаний, малая база. Вот это моя точка зрения.
Нейросети - вред или польза?
— Как вы относитесь к применению нейросетей в образовании?
— Мне кажется, что мы находимся в очень сложной ситуации. Чем младше ребята, тем они более подвергнуты этому. Сейчас нейросети, ChatGPT и в принципе технологии, направлены на то, чтобы освободить человека от рутинной деятельности. Рутинная деятельность легка для нашего мозга, и мы, взрослые состоявшиеся профессионалы, можем её не делать, для нас нет опасности использования новых технологий. А для ребёнка трёх лет или школьника это опасно: «Я просто сочинение забью в СhatGPT, он мне всё напишет». Наш мозг — это органика, это ткани, это биология, и мы за рамки своего тела не можем выйти; следовательно, нам нужно уметь как-то формировать его возможности. Может быть, всё поменяется, но сейчас, мне кажется, младшим поколениям будет всё сложнее и сложнее, потому что требования растут, а инструментов для формирования этих навыков становится всё меньше и меньше, и, следовательно, образование, подход к образованию, сознательность становятся ещё более важным фактором.
— Какие особенности олимпиадной химии вы можете отметить?
— Химия — достаточно специфическое направление образования, потому что химиков и в принципе, тех, кто готов работать в этой области, крайне мало. Именно знание химии, представление и химическая логика должны быть в итоге у большого спектра специалистов. В фонде мы проводим планомерную работу по подготовке, потому что невозможно ни на какой олимпиаде в одиннадцатом классе проснуться однажды утром, сказать: «Я буду олимпиадником!» и пойти выиграть все олимпиады, так не работает. Интеллектуальная олимпиада во многом похожа на спорт: чем раньше ты начинаешь, тем лучше у тебя получается, когда ты готовишься. Конечно, есть предрасположенности, талант, это много значит, но талант без работы не дает результатов. В Фонде мы стараемся взять ребят с 7−8 класса, кому интересны естественные науки. Начинаем с ними заниматься, формируем базовые навыки и потом, к 9, 10, 11 классу поддерживаем этот интерес: нагружаем более серьёзными задачами, обсуждаем более существенные проблемы, углублённо изучаем химию, помогаем в поиске литературы и в том числе создаваем сообщество.
— Олимпиады учат решать какие-то задачи в жизни?
— Идеальная траектория развития человека — это когда ты олимпиадник, много учишься, но это не задвигаешь все остальные активности. На мой взгляд, лучше быть средним олимпиадником, но при этом участвовать в химических турнирах, в проектной деятельности, в кейсовых чемпионатах. В процессе обучения ты получаешь компетенции, которые даются в каждой из форм соревнований. Это лучше, чем быть просто супер-пупер-олимпиадником. Но это моя личная точка зрения. У каждой формы соревнований есть определённые задачи и определённые факторы. В задачи олимпиады не включены эти компетенции, и она не обязана это развивать. Никто её для этого не создавал. Это соревнование знаний.
— Расскажите, пожалуйста, про химические турниры. Как вы их организуете?
— Это все проектная команда «EasyChem», которая организует турнирные движения в Уральском федеральном округе. Сам турнир представляет из себя решение открытых задач, которые не имеют четкого ответа, следовательно, есть разность подходов, и мы там работаем с какой-то моделью. Отличие турниров ещё в том, что в олимпиадах ты решаешь одну задачу, а здесь ты отрабатываешь методику решения сложных открытых задач. Плюс у тебя подключаются коммуникативные навыки: недостаточно решить, надо ещё пойти рассказать. Также важно умение задавать правильные вопросы, умение отвечать на эти вопросы, плюс подвергать себя и других сомнению, потому что нет абсолютного знания, нет истины. Умение сомневаться — это очень важный навык. Чтобы решать олимпиадные задачи, у тебя должны быть сформированы все факторы мышления.
— Вы говорили про успешных людей. Что для вас успех?
— Успех — это быть значимым в той области, которой ты занимаешься. Стремиться к чему-то новому, к лучшему, совершенствоваться, расти. И при этом, конечно же, успех — это внешняя характеристика, следовательно, это и подтверждение обществом. Значит, можно быть непринятым гением, но это не успех. Успех — это когда ты и сам понимаешь, что ты над собой растёшь, и общество тоже подтверждает это.
— Мне кажется, что мы находимся в очень сложной ситуации. Чем младше ребята, тем они более подвергнуты этому. Сейчас нейросети, ChatGPT и в принципе технологии, направлены на то, чтобы освободить человека от рутинной деятельности. Рутинная деятельность легка для нашего мозга, и мы, взрослые состоявшиеся профессионалы, можем её не делать, для нас нет опасности использования новых технологий. А для ребёнка трёх лет или школьника это опасно: «Я просто сочинение забью в СhatGPT, он мне всё напишет». Наш мозг — это органика, это ткани, это биология, и мы за рамки своего тела не можем выйти; следовательно, нам нужно уметь как-то формировать его возможности. Может быть, всё поменяется, но сейчас, мне кажется, младшим поколениям будет всё сложнее и сложнее, потому что требования растут, а инструментов для формирования этих навыков становится всё меньше и меньше, и, следовательно, образование, подход к образованию, сознательность становятся ещё более важным фактором.
— Какие особенности олимпиадной химии вы можете отметить?
— Химия — достаточно специфическое направление образования, потому что химиков и в принципе, тех, кто готов работать в этой области, крайне мало. Именно знание химии, представление и химическая логика должны быть в итоге у большого спектра специалистов. В фонде мы проводим планомерную работу по подготовке, потому что невозможно ни на какой олимпиаде в одиннадцатом классе проснуться однажды утром, сказать: «Я буду олимпиадником!» и пойти выиграть все олимпиады, так не работает. Интеллектуальная олимпиада во многом похожа на спорт: чем раньше ты начинаешь, тем лучше у тебя получается, когда ты готовишься. Конечно, есть предрасположенности, талант, это много значит, но талант без работы не дает результатов. В Фонде мы стараемся взять ребят с 7−8 класса, кому интересны естественные науки. Начинаем с ними заниматься, формируем базовые навыки и потом, к 9, 10, 11 классу поддерживаем этот интерес: нагружаем более серьёзными задачами, обсуждаем более существенные проблемы, углублённо изучаем химию, помогаем в поиске литературы и в том числе создаваем сообщество.
— Олимпиады учат решать какие-то задачи в жизни?
— Идеальная траектория развития человека — это когда ты олимпиадник, много учишься, но это не задвигаешь все остальные активности. На мой взгляд, лучше быть средним олимпиадником, но при этом участвовать в химических турнирах, в проектной деятельности, в кейсовых чемпионатах. В процессе обучения ты получаешь компетенции, которые даются в каждой из форм соревнований. Это лучше, чем быть просто супер-пупер-олимпиадником. Но это моя личная точка зрения. У каждой формы соревнований есть определённые задачи и определённые факторы. В задачи олимпиады не включены эти компетенции, и она не обязана это развивать. Никто её для этого не создавал. Это соревнование знаний.
— Расскажите, пожалуйста, про химические турниры. Как вы их организуете?
— Это все проектная команда «EasyChem», которая организует турнирные движения в Уральском федеральном округе. Сам турнир представляет из себя решение открытых задач, которые не имеют четкого ответа, следовательно, есть разность подходов, и мы там работаем с какой-то моделью. Отличие турниров ещё в том, что в олимпиадах ты решаешь одну задачу, а здесь ты отрабатываешь методику решения сложных открытых задач. Плюс у тебя подключаются коммуникативные навыки: недостаточно решить, надо ещё пойти рассказать. Также важно умение задавать правильные вопросы, умение отвечать на эти вопросы, плюс подвергать себя и других сомнению, потому что нет абсолютного знания, нет истины. Умение сомневаться — это очень важный навык. Чтобы решать олимпиадные задачи, у тебя должны быть сформированы все факторы мышления.
— Вы говорили про успешных людей. Что для вас успех?
— Успех — это быть значимым в той области, которой ты занимаешься. Стремиться к чему-то новому, к лучшему, совершенствоваться, расти. И при этом, конечно же, успех — это внешняя характеристика, следовательно, это и подтверждение обществом. Значит, можно быть непринятым гением, но это не успех. Успех — это когда ты и сам понимаешь, что ты над собой растёшь, и общество тоже подтверждает это.
Авторы: Алиса Домнина, Николай Константинов
Проект создан обучающимися
Фонда поддержки талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение»
Фонда поддержки талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение»